
diff — контент вне профиля: эссе-синопсис

Утро. Вибрация смартфона вытягивает сознание из сна. Привычным, почти рефлекторным движением рука тянется к экрану — отключить будильник, пролистать уведомления. На поверхности стекла разворачивается хореография пиктограмм: красные кружки с цифрами, превью сообщений, анонсы новостей, напоминания. Среди них — голоса социальных платформ, требующие немедленного отклика. Эта микро-сцена, повторяющаяся миллиарды раз в сутки по всему миру, давно перестала быть нейтральным техническим жестом. Она стала порогом, за которым разворачивается особая экономика внимания, перформативности и идентичности — экономика, в которой текст-высказывание и мысль оказываются захвачены машинерией профилей, алгоритмов и метрик видимости.
Переход в приложение социальной сети открывает глазу пространство конкуренции: посты соревнуются друг с другом за доли секунды внимательного взгляда, рекламные блоки мигают провокационными заголовками, всплывающие окна требуют решений — закрыть или перейти по ссылке? Даже если лента выглядит спокойнее — редакторски выверенной, тематически однородной, по-деловому сдержанной — её структура остаётся неизменной: вокруг каждого фрагмента контента собирается густое облако метаданных. Аватар, никнейм, счётчики лайков и репостов, бейджи верификации, отметки о времени публикации, визуальные маркеры статуса — всё это работает не на передачу сообщения, а на завоевание и удержание внимания в условиях бесконечного скролла. Лента формируется алгоритмом, который учитывает подписки, историю взаимодействий, модели предпочтений, превращая поток высказываний в персонализированный спектакль, где алгоритм собирает персональный поток; каждый фрагмент — заявка на видимость.
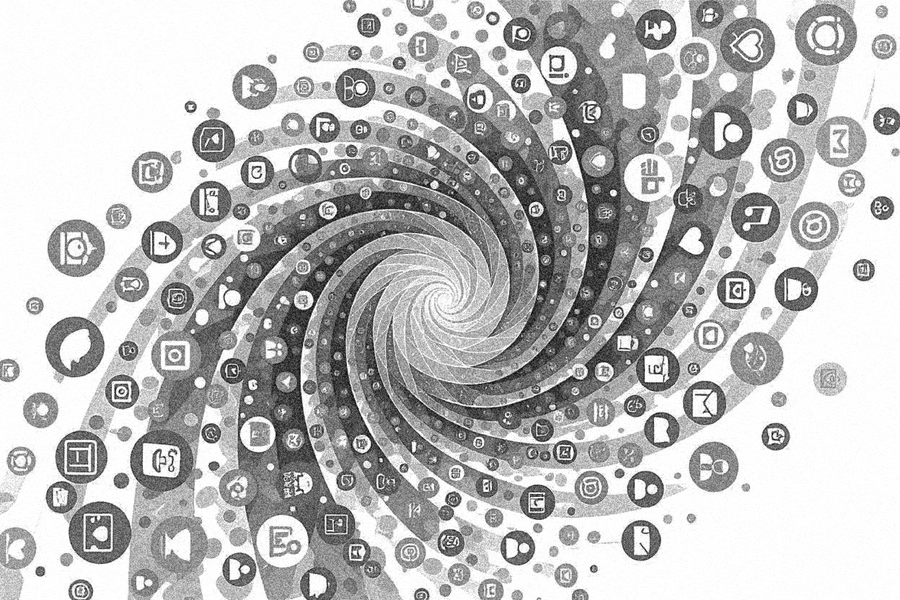
В таких условиях встреча с контентом — встреча, стремящаяся к непредвзятости, внимательности, честности восприятия — становится почти невыполнимой задачей. Профили задают рамку интерпретации ещё до того, как глаз коснётся первого слова: мы читаем не текст, а «текст этого автора», не аргумент, а «аргумент человека с тем или иным количеством подписчиков». Алгоритмическая выдача усиливает эффект, подсовывая в ленту то, что уже соответствует нашим предпочтениям, закрепляя эхо-камеры и сужая горизонты внимания. Видимая статистика превращает речь в перформанс: каждое высказывание пишется с оглядкой на счётчики, каждый ответ калибруется под ожидаемый отклик аудитории. Контент мутирует, приспосабливается к этим условиям — не к естественной среде своего «обитания», а к искусственной экосистеме платформ, где выживает не самое точное или глубокое, а самое громкое, провокационное, виральное.
Этот текст — попытка переосмыслить сам «контракт чтения» между произведением, интерфейсом и читателем. Вместо персонализированного шоу идентичности предлагается косвенная коммуникация через ритуалы, паузы, анонимные режимы, где текст обретает автономию — не как продолжение бренда автора, а как объект среди объектов. Назовём это моделью равностатусности акторов цифрового взаимодействия, где пост, алгоритм, интерфейс и читатель принимаются как вещи со своими свойствами и зонами сокрытия, а посредничество осуществляется через задержки, зашумлённые метрики, антигемофильные миксы и «слабые» механики внимания.
Взаимодействие с контентом требует переизобретения инфраструктуры встречи — интерфейса, алгоритма. Это путь не только для дизайнеров, но для всех, кто пишет и читает в цифровом пространстве. Потому что контракт чтения подписывается не один раз и навсегда, а заново — каждым кликом, каждой паузой, каждым решением остановиться и подумать, прежде чем ответить.
Задачей проектируемого продукта станет облегчение этого пути — по качественно вымощенной дороге идти приятно, продираться сквозь деревья по едва различимой лесной тропе осмелится не каждый, даже если в конце путешествия его ждёт что-то очень ценное. Предоставить менее болезненный способ обретения этого ценного — миссия diff.
От смерти Автора к интерфейсу без лица

Ролан Барт объявил смерть автора в 1967 году, но цифровые платформы воскресили нечто наподобие автора в гипертрофированной форме. Там, где Барт видел освобождение текста от тирании биографии и интенции, социальные сети построили культ профиля — машину по производству авторской идентичности как товара. Каждый пост оказывается привязан к аватару, имени, истории публикаций, рейтингу влияния. Текст читается сквозь призму «кто это сказал», а не «что именно сказано». Это возвращение автора, но не как творца, а как бренда, чья ценность измеряется метриками видимости.
Мишель Фуко дополнил критику Барта концепцией «функции-автора» — институциональной рамки, которая регулирует, кто имеет право говорить, о чём и в каких формах. В цифровом пространстве эту функцию выполняют алгоритмы ранжирования, правила платформ, системы верификации. Они определяют, чей голос будет услышан, а чей утонет в шуме. Профиль становится не просто поверхностью идентичности, но дисциплинарным фильтром: он отбирает, классифицирует, иерархизирует высказывания ещё до того, как потенциальный читатель успел их встретить.
Умберто Эко предложил идею «открытого произведения» — в нашем случае — текста, который не навязывает единственного смысла, а приглашает к интерпретационной свободе. Но открытость требует определённых условий: времени на размышление, дистанции от авторской фигуры, пространства для множественности прочтений. Цифровые интерфейсы, напротив, «закрывают» произведение: мгновенная обратная связь (лайки, комментарии), публичные метрики, алгоритмическое подкрепление «правильных» реакций — всё это сужает спектр возможных откликов до нескольких предзаданных жестов. Текст перестаёт быть событием продуктивной встречи и становится триггером для автоматизированных реакций.
Перенастроить интерфейс так, чтобы авторская метка ушла с поверхности — значит вернуть локус смысла в процесс чтения. Скриптор вместо автора, множественность вместо биографии, читатель как синтезатор различий. Это не отрицание авторства как такового, но отказ от его монополии влияния на смысл. Анонимная карточка, лишённая аватара и счётчиков, возвращает фокус к содержанию — к композиции текста, ритму фразы, плотности аргумента. Она заставляет читать, а не сканировать статусные сигналы.
Общество усталости и экономика перформанса
Философ Бён-Чхоль Хан описал современность как «общество усталости» — пространство, где субъект превращается в «субъекта-достижения», постоянно требующего от себя максимальной продуктивности, максимальной видимости, максимального успеха. В отличие от дисциплинарного общества Фуко, где власть действовала через запреты и надзор, общество достижения работает через самопринуждение: «ты можешь всё, если достаточно постараешься». Эта логика не освобождает, а истощает, потому что предел всегда отодвигается дальше, а провал интерпретируется как личная вина.
Цифровые платформы идеально воплощают эту механику. Публичные метрики — лайки, просмотры, подписчики — превращают каждое высказывание в акт само-пере-оценки. Каждый пост — это ставка на рынке внимания, где успех измеряется немедленно и публично. Мгновенная обратная связь создаёт петлю перформативности: ты пишешь не то, что думаешь, а то, что, как ты предполагаешь, принесёт лайки; ты не размышляешь, а калибруешь речь под ожидания аудитории. Это не злонамеренная манипуляция, а структурный эффект дизайна, который культивирует гипервовлечение и провоцирует выгорание.
Томас Метцингер в «Туннеле эго» показал, как когнитивная архитектура сознания создаёт иллюзию стабильного «я», которое на самом деле является временной конструкцией. Профили в социальных сетях усиливают эту иллюзию, фиксируя идентичность в виде застывшего образа — набора постов, фотографий, метрик. Но одновременно они делают «я» хрупким: каждый провал поста, каждый неудачный комментарий воспринимается как угроза целостности образа. Я-центрация усиливается, а возможность встречи с иным — с текстом, который говорит не обо мне и не для меня — сокращается.
Анонимизация поверхности интерфейса — скрытие профилей, задержки в публикации откликов, отсутствие немедленных счётчиков — работает как антидот против перформативной усталости. Она снижает рефлексы гипервовлечения, открывает окно для понимания вместо реагирования и повышает вероятность возникновения условий для акта созерцания. Это не призыв к тотальной анонимности, но попытка сбалансировать дизайн так, чтобы субъект-достижения мог иногда «отойти от своей роли».
Гемофильность, эхо-камеры и утрата дальнего
Гемофильность — тенденция связываться с похожими — является базовым организующим принципом социальных сетей. Люди дружат с людьми своего возраста, языка, класса, убеждений. Алгоритмы рекомендаций усиливают эту тенденцию: они показывают то, что соответствует прошлому поведению, закрепляя пузыри фильтров и эхо-камеры. Структура сети влияет на диффузию идей: информация циркулирует внутри кластеров, но редко пересекает границы групп. Это не только социологическая данность, но и политическая проблема — потому что утрата контакта с «дальним» (иным языком, иной культурой, иной позицией) сужает горизонты понимания и усиливает поляризацию.
Серендипность — в нашем контексте — способность системы предлагать неожиданные, но полезные встречи — требует проектировать «дальнее» как норму, а не исключение. Это не означает навязывание случайного хаоса, но являет призыв сочетать релевантность с новизной, точность с разнообразием источников. Рекомендательные системы традиционно оптимизируются под предсказание вкуса — «ты это любил, значит, тебе понравится и это». Серендипность требует иной метрики: не только соответствие прошлому, но и расстояние от него, способность удивить и расширить сферу заинтересованности.
Космополитизм в интерфейсе — это практика дизайна, которая делает встречи с иным устойчивыми, а не разовыми. Квоты на тематическую, языковую, географическую инаковость в ленте; маршруты вне пузырей, поддерживаемые визуальными картами; дозированное вмешательство алгоритма, который вводит «слепые» рекомендации — посты, отобранные без учёта профиля пользователя. Это не жест в духе «мы знаем, что тебе полезно», но институционализация серендипности как права на неожиданность.
Надзорный капитализм и дисциплинарные фильтры
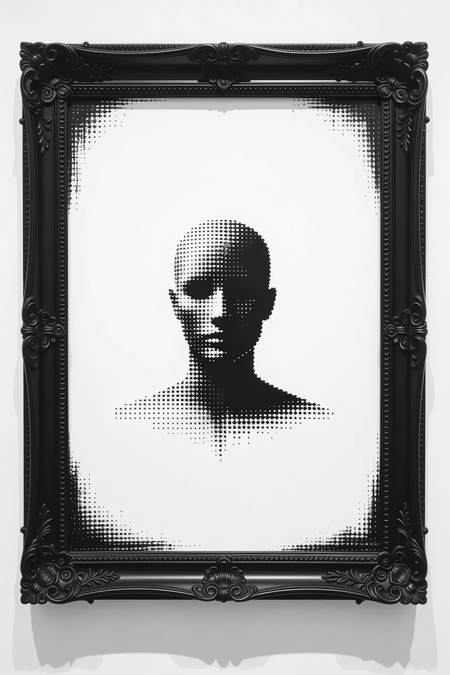
Шошана Зубофф в «Эпохе надзорного капитализма» описала новую логику накопления, где сырьём становятся данные о поведении, а продуктом — предсказание и модификация этого поведения. Платформы не просто наблюдают за пользователями, но активно формируют их действия через дизайн интерфейса, алгоритмические подталкивания, архитектуру выбора. Публичные метрики — лайки, просмотры, рейтинги — становятся дисциплинарными фильтрами: они регулируют, что и как мы говорим, какие темы получают видимость, а какие остаются «утонувшими».
Это не классический надзор в духе паноптикума Бентама, где власть видит всех, но никто не видит власти. Здесь надзор встроен в структуру взаимодействия: пользователи сами производят данные, сами следят друг за другом, сами требуют метрик как подтверждения своей значимости. Видимость становится валютой, а невидимость — формой исключения. В таком режиме речь перестаёт быть коммуникацией и становится потоком сигналов: каждое высказывание пишется с оглядкой на то, как оно будет измерено, взвешено и оценено.
От «прозрачного UI» — иллюзии, что интерфейс нейтрален и просто передаёт информацию — нужно перейти к UI с медиа-акцентом, который признаёт собственную роль в производстве смысла. Как гласит известная формула Маршалла Маклюэна: «медиум есть сообщение». Интерфейс — это не стекло, сквозь которое мы видим контент, а активный посредник, задающий темп, ритм, фрейм видимости. Признать медиативность — значит встроить в дизайн рефлексию о собственных эффектах: режимы анонимности, пороговые задержки, естественное затухание метрик вместо культивации эскалации контента.
Акторы, сборки и четвероякий объект
Акторно-сетевая теория Бруно Латура предлагает мыслить социальное как сеть гетерогенных акторов — людей, вещей, технологий, — где ни один не редуцируется к другому. Пост, алгоритм, интерфейс, читатель — все они обладают агентностью, все производят эффекты. Пост — не просто носитель авторской интенции, алгоритм — не просто исполнитель заданных правил, читатель — не просто пассивный потребитель. Они взаимодействуют, модифицируют друг друга, образуют временные сборки, которые не существуют вне этих взаимодействий.
Грэм Харман и объектно-ориентированная онтология сообщают: каждый объект обладает реальным ядром, которое всегда отступает, скрывается, никогда не исчерпывается своими отношениями. Это «сокрытие» — не недостаток доступа, но онтологическое свойство вещей. Объекты взаимодействуют не напрямую, а через посредников — викарная причинность. Аллюр — те чувственные качества, которые привлекают внимание, не раскрывая реального ядра. Эти концепты Хармана дают язык для дизайна косвенной коммуникации: вместо прямого подкрепления (лайк = успех) — отложенные отклики, зашумлённые метрики, таймеры, которые растягивают причинно-следственные цепочки и создают пространство для размышления.
Четвероякий объект Хармана состоит из четырёх полюсов: реальный объект (сокрытое ядро), реальные качества (скрытые свойства), чувственный объект (как он является), чувственные качества (поверхностные признаки). Применительно к цифровому посту: реальный объект — сам текст как автономная вещь, отступившая от автора; реальные качества — смысловые связи, которые не видны непосредственно; чувственный объект — карточка в ленте, композиция, типографика; чувственные качества — аллюр формы, который притягивает взгляд без «кричащих» эффектов. Дизайн должен культивировать это напряжение между поверхностью и сокрытием, не стремясь к тотальной прозрачности, которая уничтожает аллюр.
Пост, алгоритм, интерфейс, читатель: онтография ленты
Карточка без автора отключает аватар, имя, публичные счётчики, возвращая фокус к содержанию. (Анонимность — по выбору пользователя; доступна обратимая «подпись» для случаев, когда ответственность важна.) Объект говорит как вещь среди вещей, а не как эманация бренда. Задержка после чтения, лимиты немедленного ответа, отсутствие лайков обрывают импульс «мгновенной победы», переводя взаимодействие в плоскость осмысленного отклика. Это не запрет на реакцию, но её переопределение: время выступает как материал этики чтения.
Алгоритм проявляет себя следами порядка и темпа, странностями ранжирования, «дыханием» пауз. Его интерфейс должен быть читаемым как форма времени, а не как оркестратор соревновательной гонки. Антигемофильные миксы — дозированное вмешательство «дальнего», слепые рекомендации — вводят регулятивную серендипность потока как собственную функцию алгоритма. Это не нейтральность (которой не существует), но честность о ненейтральности: алгоритм признаёт, что он формирует ленту, и берёт ответственность за разнообразие.
Интерфейс — активный посредник: он задаёт фрейм видимости, темп чтения, ритм пауз. Управляемое трение против бесконечного скролла, «окна тишины» и неблокирующие подсказки возвращают время как материал. Читатель переводится из роли скроллера в роль наблюдателя (созерцателя, если употреблять термин Хана) и размышляющего. Дневники внимания позволяют фиксировать траектории восприятия без превращения их в публичные рейтинги. Приватные отклики — письма в будущее, отложенные заметки — создают «слабые призывы» вместо гонки за лайками.
Ритуалы косвенной коммуникации
Паузы как «окна тишины» работают анти-реактивно, повышая точность понимания и снижая вероятность эскалаций. Паузы, субтитры, режим «чёрно-белой» контрастности — чтобы «тихое чтение» было доступно всем — нужно встраивать в микро- и макроритмы интерфейса. Отложенные ответы и сглаживание всплесков — это практика этики скоростей: удержание смысла и центральной темы важнее немедленной победы в споре. Время перестаёт быть инструментом ускорения реакции и переключения внимания и становится условием продуктивной контент-встречи.
Типографика и «поля тишины» заменяют перформативный глянец, помогая говорить тихо, но внятно, и собирать внимание на содержании, а не на статусных атрибутах. Пост переносит действия по таймеру, чтобы пост жил дольше первого касания, а читатель встречал его вне режима «новостной паники». Это не эстетизация медлительности, это — институционализация темпа как осознанного выбора.
Дальность как норма — квоты тематической, языковой, географической инаковости — обеспечивает безопасные встречи с чужим и минимизирует локальную самоочевидность. Маршруты вне пузырей — визуальные карты переходов и режимы экспозиции неожиданного — поддерживают устойчивую серендипность. Дальнее перестаёт быть исключением и становится нормой, частью повседневной практики чтения.
Зашумлённые метрики делают участие полноценным без публичных счётчиков, удерживая мотивацию в зоне внутренних и долговременных эффектов, а не мгновенной нарциссической отдачи. Анти-перформативность вводит приватные и необязательные признания и мягкие признаки присутствия, где связь измеряется вниманием, а не видимостью. И снова: это не отказ от обратной связи, но её переизобретение: вместо публичных иерархий — приватные сигналы, вместо немедленного подкрепления — отложенное признание.
Политики внимания и этика скоростей

Публичные метрики дисциплинируют речь, формируя «рынки внимания», совместимые с поведенческой модификацией и надзорными практиками. Альтернативы — кураторство, архивирование, контекстный приоритет — работают без иерархий «хайпа», делая память и связи важнее всплесков и статистической славы. Однако эти альтернативы — не плод ностальгии по доцифровым временам. Они призваны дать шанс попытке переизобрести цифровое так, чтобы оно служило коммуникации, а не извлечению данных.
Медленные интерфейсы против императива достижения создают норму темпа, а не режим исключения, снижая выгорание и уровень реактивной токсичности. Пороговые задержки задают «сбалансированную тишину»: достаточную, чтобы переработать смысл, недостаточную, чтобы разрушить диалог. Этот баланс требует эмпирической калибровки: слишком короткие паузы не работают, слишком длинные замораживают общение. Дизайн становится этической практикой, где каждая настройка — это гипотеза о том, как должна выглядеть встреча.
Космополитизм как атрибут дизайна означает проектирование спроса на «дальнее»: делать серендипность не бонусом, а стандартом, строить устойчивые каналы внимания к незнакомому и непривычному. От анти-эхо-камер к смешению горизонтов: удерживать «дальнее» — значит нормализовать разность, а не только демонстрировать её в виде разовой «инъекции» разнообразия. Вместо демонстративного мультикультурализма витрин — настоящий космополитизм практики — ежедневной, рутинной, институционализированной.
Метрики
Онто-метрики признают, что объект не редуцируется к следам данных. Поверхность и сокрытие — два полюса, и метрики должны допускать неполноту, шум, избегая соблазна «полной прозрачности». Производные посты и кросс-темпоральные переходы распознаются как следы смыслового эффекта, отражающие «викарную причинность» (по Харману) между объектами. Метрика становится не инструментом контроля и персонализации, но способом наблюдения за жизнью контента в экосистеме.
Время чтения, возвраты, точность пересказа, длинные цитаты — косвенные индикаторы глубины, которые не должны истощаться в угоду публичным рейтингам, они полезны как приватная аналитика дизайна. Опросы после паузы показывают, как «окна тишины» меняют тон, понимание и вероятность эмпатического отклика. Это метрики второго порядка: они измеряют не количество внимания, а его качество, не видимость, а встречу.
Энтропия, разнообразие источников, доля неожиданных встреч — качественные и количественные индикаторы серендипности, балансирующие релевантность и новизну. Важно отметить, что теория поверяется (и соответствующим образом корректируется) не абстрактными аргументами, но наблюдаемыми сдвигами в поведении читателей.
Лаборатория
Онтография как «философское оборудование» понимает прототип интерфейса как эксперимент по сборке акторов, где свойства объектов выявляются под нагрузкой времени, пауз и ограничений. Документирование сбоя превращает ошибку в аллюр — метод открытия, заставляющий увидеть невидимые соединения и имплицитные допущения. Прототип — это не готовое решение, но вопрос, заданный в материале.
«Тихая» карточка пользователя или поста, слепые рекомендации, анти-видимость, письма в будущее — спецификации, которые институционализируют ненасильственные формы взаимодействия. Режимы времени — мгновенное, пауза, отложенное, возвращения — становятся осями дизайна, переосмысляя, что считается «активностью» и «успехом» в интерфейсе.
Дневники внимания с ИИ-функциями фиксируют сдвиги в восприятии без превращения опыта в публичные трофеи, сохраняя достоверность свидетельств. Этические протоколы прокладывают границы приватности без профилей, правила эскалации и пределы терпимости, соотнося анонимность с ответственностью. Данные чтения и дневников внимания — локальные по умолчанию. Это совместное выращивание норм общения.
От критики к культивации
Новые интерфейсы не обещают «чистую» медиацию — её не существует. Но они учат жить с шумом, распределяя его во времени и форме, чтобы текст снова мог стать событием, а не только поводом для записи счётчика. Это движение от критики к культивации: не только разоблачать дисциплинарные фильтры и надзорные практики, но и выращивать альтернативные ритуалы, которые удерживают пространство для созерцания, серендипности, космополитизма.
Открытая карта вопросов по-прежнему остаётся: пределы анонимности (как сохранить ответственность без профилей?), устойчивость дальнего (как удержать серендипность от обратной ассимиляции?), доверие без метрик (как строить репутацию, не превращая её в товар?), локальные нормы (как согласовать темпы и границы в разных сообществах?). Эти вопросы требуют совместимости теории, дизайна и эмпирики, а также готовности корректировать ритуалы по мере взросления экосистемы.
Этот текст — не инструкция, он — приглашение к эксперименту. Он собирает теории медиа, внимания и сетей, чтобы высвободить текст из индустрии видимости и вернуть ему онтологическую автономию, поддержанную ритуалами времени и формой интерфейса. Практическая часть должна показать, как контент-центричность, управляемое трение, серендипные миксы и зашумлённые метрики образуют политику внимания, устойчивую к гемофильности и дисциплинарным фильтрам надзорной экономики. Лаборатория завершает движение, превращая прототип в философское оборудование для совместного тестирования этик скоростей и доверия без профилей в реальных режимах чтения.
Библиография
Книги и журналы
Klein, N. No Logo. — London, Flamingo, 2000. — 502 p.
Metzinger, T. The Ego Tunnel: The Science of the Mind and the Myth of the Self. — New York, Basic Books, 2009. — 288 p.
Барт Р. Нулевая степень письма / пер. с фр. Г. Косиков. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 96 с.
Барт Р. Удовольствие от текста / пер. с фр. Г. Косиков. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 112 с.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика — М., 1994 — С. 384–391
Гройс Б. Под подозрением. Феноменология медиа. / пер. с нем. А. Фоменко. — 2-е изд., испр. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 216 с.
Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. / пер. с нем. Т. Зборовская. — 2-е изд., испр. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. — 224 с.
Гройс Б. В потоке / пер. с англ. А. Фоменко. — 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — 208 с.
Гэллоуэй А. Р.; Такер Ю.; Уорк М. Экскоммуникация: три эссе о медиа и медиации / пер. с англ. А. Гришина — М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. — 256 с.
Деланда М. Новая философия общества: теория ассамбляжей и социальная сложность / пер. с англ. К. Майорова. — Пермь: Гиле Пресс, 2018. — 208 с.
Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма: битва за человеческое будущее на новых рубежах власти / пер. с англ. А. Ф. Васильева; под науч. ред. Я. Охонько, А. Смирнова. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2024. — 784 с.
Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. В. Мильдзихова. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 392 с.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. — СПб.: Алетейя, 2016. — 160 с.
Ловинк Г. В плену у платформы: как нам вернуть себе интернет / пер. с англ. А. Карташова, Н. Котика. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 232 с.
Ловинк Г. Критическая теория интернета / пер. с англ. Д. Лебедев, П. Торкановский. — 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 256 с.
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. — М.: Кучково поле, 2019. — 464 с.
О’Гиблин М. Бог, человек, животное, машина. Поиски смысла в расколдованном мире / пер. с англ. М. Славоросовой. — М.: Индивидуум, 2024. — 336 с.
Пасквинелли М. Измерять и навязывать: социальная история искусственного интеллекта / пер. с англ. И. Напреенко. — М.: Индивидуум, 2024. — 352 с.
Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе / пер. с англ. В. Голышев и др. — 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 368 с.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с франц. — М.: Касталь, 1996. — 448 с.
Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова; ред. И. Борисова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. — 416 с.
Хан Б.-Ч. Общество усталости: негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива / пер. с нем. А. Салин. — М.: АСТ, 2023. — 160 с.
Хан Б.-Ч. Инфократия: истина и свобода в цифровую эпоху / пер. с нем. С. Мухамеджанов. — М.: АСТ, 2025. — 160 с.
Харман Г. Имматериализм: объекты и социальная теория / пер. с англ. А. Писарева. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. — 152 с.
Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего» / пер. с англ. М. Фетисов — 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 256 с.
Харман Г. Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера / пер. с англ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Hyle Press, 2024. — 192 с.
Хоркхаймер, Макс. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс / пер. с нем. — 2-е изд. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 96 с.
Цукерман Э. Новые соединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху / пер. с англ. Д. Симановский. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 336 с.
Эко У. Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэтике / пер. с итал. А. Шурбелев — М.: АСТ; Corpus, 2018. — 512 с.
Философско-литературный журнал Логос. ОСУЖДЕНИЕ, ВОЛЯ И ДОЛГ. — 2025. — Т. 35 — № 3 (166). — М.: Высшая школа экономики, 2025. — 240 с.
Философско-литературный журнал Логос. ПОСЛЕ АЛГОРИТМОВ. — 2024. — Т. 34 — № 6 (163). — М.: Высшая школа экономики, 2024. — 328 с.
Философско-литературный журнал Логос. СИМОНДОН101 — 2025. — Т. 35 — № 4 (167). — М.: Высшая школа экономики, 2025. — 280 с.
Мюравьек Л. Великая Пустота / пер. с фр. В. Чепига. — СПб.: Поляндрия NoAge, 2024. — 208 с.
Публикации
Beerends S.; Ciano A. Negotiating Authenticity in Technological Environments // Philosophy & Technology. — 2021. — Vol. 34. — 19 Nov.
Hladko M. «New Sincerity» as a New Communicative Technology in Media: Insight from Western Europe Media // Insight-News Media. — 2025. — Vol. 8, no. 1. — 18 June.
Nitschinsk L.; et al. Why Do People Sometimes Wear an Anonymous Mask? Motivations for Seeking Anonymity Online // Personality and Social Psychology Bulletin. — 2023. — 24 Nov.
Латур Б. Об акторно-сетевой теории: некоторые разъяснения, дополненные еще большими усложнениями // Логос. — 2017. — Т. 27. — № 1. — С. 173–200.
Медникова А. А. Гипосубъект Т. Мортона как новый образ человека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. — 2022. — Т. 38. — Вып. 3. — С. 341–353.
Парамонов А. А. Агентный реализм Карен Барад и концептуализм Нильса Бора // Философский журнал / Philosophy Journal. — 2022. — Т. 15. — № 3. — С. 100–112.
- изображения сгенерированы в Stable Diffusion XL и Grok AI Imagine



