
Nobody Horror: десубъективация, деймодицея и философский хеллоуин

Введение. Философский хеллоуин
Несколько лет назад Тимоти Мортон — философ, имя которого наряду с несколькими другими в первую очередь ассоциируется с так называемым «тёмным поворотом», — написал в своём блоге: «Они украли у нас тьму». Правда, вскоре удалил эту запись.

Что его рассердило? Вероятно, дело в том, что «тёмная экология» задумывалась Мортоном вовсе не как готическая вечеринка, а как стратегическое принятие экологической меланхолии. «Тьма» в этом словосочетании — это тьма гиперобъектов вроде глобального потепления (объектов настолько массивных и распределённых, что они просто не помещаются в голове). И когда Мортон говорит о «тёмной экологии», имеется в виду смирение, отвага и честность жить в мире-не-для-нас.
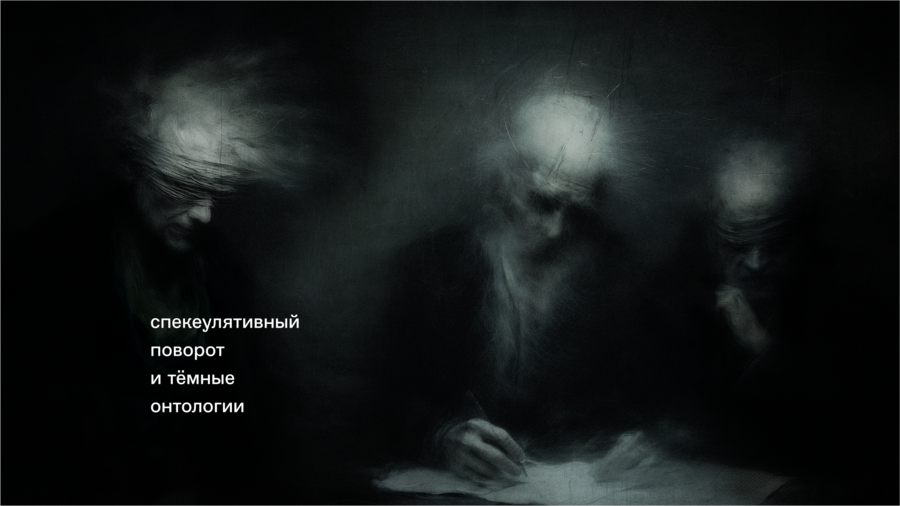
Однако философы спекулятивного поворота, поначалу использовавшие «тёмные» культурные феномены (Лавкрафта, блэк-метал, фильмы ужасов) как метафорический инструментарий для указания на радикально нечеловеческое и непознаваемое, отчасти превратили эту эстетику в фирменный стиль: чёрные обложки, мрачные названия книг и конференций, апокалиптическая риторика. Буквально нарядились чертями и ну давай пугать обывателей.
Критики не без оснований замечают: «тьма» — это не очень удачный образ (в частности, потому, что в умах тьма эпистемологическая легко смешивается с тьмой этической). Но непознаваемое — не злое, оно просто реально. Даже лавкрафтианские чудища чаще скорее индифферентны к человечеству, чем враждебны. Чтобы зарегистрировать враждебность и ужас, нужен человек — но как раз человеку спекулятивный реализм отказывает в доступе к реальному. Выходит некоторая несостыковка: философия, претендующая на радикальный антиантропоцентризм, в качестве аргументативного топлива использует человеческие аффекты.
И всё же этот философский хеллоуин может оказаться для нас полезнее, чем кажется: это не просто эстетическая игра или интеллектуальный нигилизм, но попытка нащупать новый способ быть человеком в эпоху, когда все опоры рухнули — не через возврат к утраченным основаниям, а через принятие безосновности как базового условия.
В частности, в этом и ценность «тёмного поворота». Честертон писал: задача художника — поддерживать в нас удивление, и для этого иногда нужно осветить вещи «ультрафиолетовыми лучами, невидимыми для прочих, скажем, тёмным, лиловым светом тоски и безумия».
Но, кстати, дальше он предупреждает: «Но если он поставит такой опыт не в искусстве, а в жизни, он уподобится рассеянному скульптору, который начал бы кромсать резцом лысую голову натурщика». Левинас писал, что если передо мной появляется кто-то живой, уязвимый, способный сказать «не убивай меня», то онтология, теория, эстетика обязаны замолчать и уступить место этике: я уже несу ответственность, ещё до того, как начну анализировать или классифицировать. Любое теоретизирование о зле и ужасе имеет красную черту — нельзя превращать Другого в материал для спекуляции, если цена — его боль или жизнь.
Наконец, как точно заметил тёмный теолог Андрей Шишков, весь этот интерес к тёмному может быть симптомом культурной усталости от «бесконечного полярного дня» модерна. Мы так долго жили в залитом светом разума пространстве, что нам теперь нужна тень, чтобы выспаться.
Вспомним мультфильм Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством». Джек Скеллингтон, король Хеллоуина, случайно попадает в Рождественский город и, вдохновлённый, решает «улучшить» светлый праздник, переделав его на свой мрачный лад. Результат — катастрофа для всех участников, включая самого Джека, которого сбивают силы ПВО. Однако, возвращаясь во тьму, он оказывается обогащён новым опытом: под действием рождественского света в нём как на фотоплёнке проступает человеческий образ.
Типология ужаса
Современная исследовательница Диана Хамис, дифференцируя хайдеггеровский Angst («экзистенциальный ужас»), выделяет три модуса самоутраты — три способа, которыми субъект терпит крушение перед лицом невозможного.
Ужас инвазивный связан с интервенцией чего-то или кого-то Другого, и это Другое меня подменяет и пилотирует: «Тот, который во мне сидит, считает, что он — истребитель». Всё, из чего выстроена моя модель реальности, вместо меня помыслил, понял и концептуализировал «тот, который во мне сидит». Где кончаюсь «я» и начинается «он» — констелляция нейромедиаторов, микробиоты моих слизистых оболочек, языка, на котором я мыслю (точнее, всех языков, «мыслящих мною» как одним из восьми миллиардов мясных компьютеров, на которых они, языки, установлены в качестве операционных систем), моих культурных кодов, «Спектакля», который мне показывают, решений, принятие которых я делегирую кодифицированной морали, сообществам, системам искусственного интеллекта, обученного на датасетах, которые за меня разметили чужие люди с неизвестными намерениями?
Имплозивный ужас — это схлопывание вовнутрь. Кошмарное переживание неопределённости собственной на фоне непреклонной определённости внешнего мира. На картине Эдварда Мунка «Крик» кричит не человек — вселенная кричит на человека. Человек зажимает уши, чтобы спрятаться в своей внутренней тишине, но акустическое давление вселенского вопля всё равно его неизбежно расплющит. Столь же имплозивен безутешный ужас, который охватывает нас, когда мы осознаём скорость и мощь неостановимого прогресса: вещи меняются быстрее, чем наши представления о них. Философствующего субъекта лихорадит — структуры мира успеют измениться прежде, чем я закончу читать эту лекцию; свирепый интенсивный мир, не снижая скорости, проедет прямо по нам.
Эксплозивный ужас — это, наоборот, взрыв, направленный вовне. Ужас перед зыбким миром — вероятно, в обыденной речи это переживание может быть обозначено выражением «земля уходит из-под ног», но, конечно, не только земля и не только из-под ног: вся сумма чувственного опыта обнаруживает полную несостоятельность для какой-либо концептуализации мира. Разверзается и неудержимо ширится щель между опытом и рассудком, в которую-то мы и проваливаемся. Это можно описать и как переживание собственной грандиозной единственности — а значит, абсолютного одиночества во вселенной, так как мы можем помыслить только себя или мир в корреляции с собой. Назовём такой ужас эксплозивным: «Субъект лопается как клетка, помещённая в среду с низким атмосферным давлением, в которой она больше не может поддерживать свои границы и разрывается».
Человеческая субъектность, как мы видим, представляет собой нечто фундаментально чужеродное миру нечеловеческих объектов — что-то вроде едкого натра, брошенного в соляную кислоту: неизбежна реакция замещения, которая сопровождается выделением большого количества теплоты, и в результате образуется просто солёный кипяток, в котором вечно варится наше несчастное сознание. Такой взгляд объединяет многие изводы философского пессимизма. Например, норвежский философ Питер Цаппфе пишет так:
«Что же произошло? Брешь в единстве жизни, биологический парадокс, чудовищность, абсурд; губительная природа хватила через край. Жизнь промахнулась мимо цели и взорвала саму себя. Один вид оказался перевооружён: дух делает всемогущим, но в равной степени угрожает самому благополучию <…> он беспомощен во вселенской тюрьме и брошен среди бездны возможностей. С этого момента он находится в состоянии непрерывной паники… Человек есть парадокс: он тратит слишком много сил, чтобы стать чем-то другим, кроме человека».
Вооружившись классификацией, мы приближаемся к крыльцу Пустого Дома. Войдём же в эти двери. В прихожей висит зеркало.
Легион имя мне
В зеркале, на котором начертано «Cogito ergo sum», Рене Декарт видел твёрдое основание своей самости и тем самым — уверенность в собственном бытии. Но вот мы находим это зеркало треснувшим; точнее, оно на самом деле никогда и не было целым, и вообще, похоже, что «картезианский субъект» — не более чем игра отражений на осколках.
Начнём с микробиологии и арифметики. В человеческом теле обитает более 100 триллионов микроорганизмов.
Если представить каждого песчинкой, потребуется куб со стороной 21,54 метра (семиэтажный дом или, если угодно, двенадцать человеческих ро́стов). Каждый из нас — сумеречная планета, населённая Чужими: от 10% до 40% метагеномных последовательностей из ЖКТ остаются неидентифицированными — «тёмная биологическая материя», которую мы не можем даже классифицировать.
Эти микросквоттеры не только занимают жилплощадь, но и успешно управляют нами, влияя на метаболизм, иммунитет, гормональный фон, социальное поведение и — вот где картезианское зеркало даёт трещину — на высшую нервную деятельность: через так называемую «ось кишечник-мозг» кишечная микрофлора может влиять на уровень тревожности, склонность к депрессии и социальное поведение. Некоторые бактерии производят нейротрансмиттеры, от которых это всё зависит, например, серотонин, дофамин и ГАМК. В итоге наше cogito оказывается продуктом возни триллионов бактерий в пищеварительном тракте, а мышление оказывается эмерджентным свойством сложной экосистемы, где уже нельзя говорить о каких-либо границах между человеческим и нечеловеческим, настолько всё перемешано: суверенный субъект картезианской традиции расщепляется на гетерогенные компоненты, обнаруживает свою фундаментальную нечистоту, пористость и проницаемость — оказывается продуктом сложных сборок и гибридизаций на границе органического и неорганического, своего и чужого, природы и технологии.
«Unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen» — «наше тело есть только общественный строй многих душ», писал Ницше. Для него это была метафора, противопоставляющая монолитному картезианскому субъекту картину множественного, процессуального, дифференциального «я» — самости как эффекта сложной игры множественных сил и «воль к власти».
Впрочем, Ницше идёт дальше: кто, вопрошает он, этот «я» в грамматической конструкции «я мыслю»? Может, мысль приходит, когда хочет она, а не когда хочу я? Субъект — не господин в доме, а диспетчер, который задним числом приписывает себе авторство решений, принятых неизвестно кем и где.
Как мы показали, эта интуиция вполне подтверждается данными микробиологии. «Многие души» обретают конкретность — триллионы микроорганизмов, формирующих наши предпочтения, желания, настроения, даже черты характера. Каждый микроорганизм стремится к размножению, к захвату ресурсов и выживанию — и эта борьба отражается в том, что мы наивно называем «своими» желаниями. На деле же, например, когда нам хочется сладкого, это просто дрожжевые грибки требуют подкормки.
Никто не воспретит нам, развивая эту мысль, предположить, что даже сама рациональность — эпифеномен микробной политики и экономики. Что если великие философские системы — способ, которым симбиотическая колония под названием «человек» осваивает реальность? Cogito превращается в cogitant — «они мыслят», где «они» — это вся эта межвидовая ассамблея, включающая и наши нейроны, и всех наших микропостояльцев, и множество других агентов, живых и неживых, больших и малых.
Ницше писал о «большом разуме» тела (в отличие от «малого разума» сознания). Теперь мы знаем, что этот большой разум говорит на множестве биохимических языков, большинство из которых мы никогда не сможем расшифровать. Наибольшую же тревогу вызывает понимание, что этот разум — не наш: он не принадлежит виду homo sapiens, а возник на пересечении эволюционных траекторий тысяч видов, каждый из которых использует нас как экологическую нишу.
«Легион имя мне, потому что нас много», — говорят бесы голосом одержимого ими человека в Евангелии, и теперь эта фраза приобретает натуралистический смысл. Мы всегда уже одержимы вполне материальными сущностями, которые думают нашими мыслями, чувствуют нашими чувствами, желают нашими желаниями, говорят нашими голосами. Это легион, говорящий на языках, которые старше человеческой речи на миллиарды лет: бактериальные системы обменивались сигналами, когда на Земле даже ещё не было многоклеточной жизни. И эти древние языки продолжают звучать в нас, определяя то, что мы считаем свободными решениями.
Разбитое зеркало cogito превратилось в дискотечный шар, где каждый осколок отражает чужой взгляд.
Быть никем
Если микробиология показала, что имя нам — легион, то нейрофилософ Томас Метцингер говорит, что и легиона никакого нет, и наше привычное переживание самого себя как консистентного и непрерывного «я» — это просто когнитивная иллюзия, порождённая специфическим режимом работы мозга.
Метцингер вводит метафорическую концепцию «туннеля Эго»: наше сознание — это туннель, по стенам которого пробегают образы, мысли, ощущения; мы заперты внутри этого туннеля и принимаем его за реальность. Но снаружи, за стенками — огромный массив бессознательных вычислительных процессов, недоступных интроспекции.
Туннель конструирует иллюзию наблюдателя: то, что мы принимаем за свою самость — это безостановочный процесс самомоделирования, который мозг осуществляет под ватерлинией сознания. Субъектность — не неделимая субстанция, а эффект сложной информационной обработки, постоянно меняющаяся маска на непонятно чьём лице (возможно, ничьём).
Мой мозг генерирует модель без оригинала, которая и пишет сейчас для вас этот текст. Вас тоже, разумеется, нет.
Здесь напрашивается параллель с платоновской пещерой, но у Платона люди прикованы в подземелье и принимают за реальность тени на стене, но хороший философ может выйти из пещеры на свет и узреть мир идей; Метцингер же переносит пещеру внутрь черепной коробки. В туннеле субъективных переживаний заперты наши умы, тени же на стене — это наше феноменальное сознание, бледные отсветы реальных процессов в нейронных сетях. В отличие от Платона, Метцингер не гарантирует выхода: граница между феноменальным и ноуменальным проходит внутри нас самих, поэтому её невозможно пересечь. Мы обречены жить в туннеле, потому что туннель — это и есть мы. Вернее, «мы» — это то, что туннель рассказывает сам себе о себе.
Кроме того, стенки этого туннеля прозрачны. Мы смотрим сквозь феноменальную модель себя как сквозь чистое стекло, не замечая её, и нам кажется, что мы способны на непосредственный контакт с миром и с собой. Но, увы, это совсем не так.
Метцингер приходит к выводу, который он сам называет «экзистенциально тревожным»: никто никогда не был собой и не имел себя. Самость — это не вещь, а процесс, причём процесс без субъекта — подобный пламени свечи, которое кажется устойчивой сущностью, но это просто непрерывный процесс окисления, и если его остановить (то есть погасить свечу), пламя исчезнет.
Впрочем, поздний Метцингер всё-таки дарит нам некоторую надежду, говоря (кажется, пока не очень уверенно) о радикально анти-картезианской и очень ценной «перспективе нулевого лица» — форме сознательного опыта без субъекта, объекта и каких-либо точек отсчёта, когда бытие-никем означает не экзистенциальную катастрофу, а свободу от иллюзии.
Театр несуществующих кукол
Если нейрофилософия Метцингера — это холодная хирургия, то проза Томаса Лиготти — это патологоанатомическое купание в формальдегиде, где плавают расчленённые останки человеческого «я».
В новелле «Шут-марионетка» протагонист — кукольник-одиночка — осознаёт, что он и сам всего лишь марионетка в руках неведомого кукловода, у которой нет ни воли, ни автономии. В программном труде «Заговор против человеческой расы» эта метафора становится центральной. Основной тезис беспощаден: реальность как таковая есть бутафория и бессмысленный фарс, разыгрываемый неведомо кем и зачем. Все мы — марионетки в руках слепого и безумного Кукловода, чьё имя можно даже не пытаться называть.
Человек для Лиготти — онтологическая аномалия и досадное недоразумение: в отличие от животных, мы наделены проклятым даром самосознания, который заставляет нас созерцать бессмысленность собственного бытия. Мы видим ниточки, но не можем их обрезать.
Субъектность тотально иллюзорна, но эта иллюзия причиняет вполне реальные страдания: фантомная боль ампутированного «я» оказывается невыносимой именно потому, что ампутировать нечего — мы страдаем от отсутствия того, чего никогда не имели. Всё творчество писателя можно рассматривать как грандиозный эксперимент по эстетическому картографированию состояния перманентной деперсонализации и балансирования на грани философского психоза — прозрения ужасающей истины о реальности.
В этих текстах утверждается некий безличный витализм по ту сторону жизни и смерти: распад субъекта высвобождает тёмные потоки либидинальной энергии, которые текут сквозь нас, не принадлежа нам. Так что подлинным протагонистом его нарратива оказывается шопенгауэрианская Мировая Воля, для которой индивидуальное сознание — досадная помеха, которую нужно устранить. И тогда «смерть субъекта» оказывается прологом к рождению чего-то иного — не сверхчеловеческого, а под-человеческого, до-человеческого, из-под-человеческого. Радикальная негативность обнаруживает в забвении «я» источник парадоксального избыточного наслаждения, «гибельного восторга», jouissance марионетки, которая наконец перестала притворяться живой.
Жуть
Давайте теперь спустимся в подвал Пустого Дома, где хранится всё то, что следовало бы навсегда забыть. Над входом начертано: Das Unheimliche. Это слово переводят как «жуткое», «зловещее», «тревожное», но буквальный перевод — «не-домашнее», чужое, то, что выпадает из уютного круга привычного и родного, но оказывается до боли знакомым.
В своём эссе 1919 года Фрейд исследует природу этого странного аффекта. Жуткое — это особый род страха, возникающий, когда что-то одновременно пугает и притягивает, отталкивает и манит, например, восковые фигуры, слишком похожие на живых людей (Фрейд приводит и другие примеры). За этой феноменологией обнаруживается, что жуткое — это возвращение вытесненного: то, что должно было остаться тайным, инфантильные страхи, подавленные желания, вытесненная агрессия, запретная сексуальность, деструктивные импульсы — всё это возвращается в искажённой, монструозной форме, и в чудовищах мы узнаём самих себя.
Здесь очень важна фигура двойника. Doppelgänger — это воплощение всего того, что субъект не может признать своим, и встреча с двойником — это встреча с собственным бессознательным, которое воплотилось. В архаических культурах двойник был магической страховкой от смерти, например, древние египтяне создавали статуи-двойники, чтобы обеспечить себе посмертное существование. Так примитивный нарциссизм проецировал себя вовне, создавая копии, которые должны пережить оригинал. Но этот защитный механизм даёт сбой: двойник из гаранта бессмертия превращается в предвестника смерти.
Нечто подобное мы обсуждали выше: микробиом — это триллионы двойников внутри нас; нейронные паттерны — двойники нашего «я», создаваемые мозгом каждое мгновение;
наша речь, добавим, — это, как показал Барт, просто коллаж из живущих в языке и предшествующих любому речевому акту конструкций. Жуткое маркирует границу между психическим и материальным, внутренним и внешним, своим и чужим, и эта граница оказывается проницаемой.
Иногда вытесненное материализуется в самой ткани реальности. Мир становится огромным проекционным экраном для бессознательного. Фрейд приводит пример: «Если вы многократно сталкиваетесь в один и тот же день с числом 62 — на номерах домов, гостиниц, купленных билетах и пр., — вам это покажется жутким. И если вы не человек с закалённым рассудком, вы склонны будете приписывать этому какому-то внутреннему, „фатальному“ смыслу, быть может — намёку на срок вашей жизни». Вытесненный примитивный страх прорывается сквозь броню рацио, и в этом весь парадокс жуткого: чем сильнее мы пытаемся быть рациональными, тем мощнее и страшнее лезет из нас иррациональное. Цивилизация не устраняет архаическое — она загоняет его вглубь, где оно мутирует и набирает силу.
Современный мир умножил поводы для жуткого: искусственный интеллект, создающий неотличимые от человеческих тексты и изображения; соцсети, содержащие аккаунты умерших людей; бездны, которые разверзаются перед нами, когда мы покидаем свой уютный информационный пузырь. Всё это — новые лазейки, через которые жуткое проникает в повседневность.
Избавиться от жуткого мы не можем — мы никогда не были хозяевами нашего мира, всегда были странниками, чужаками даже для самих себя — а значит, имеет смысл попробовать как-то научиться с ним жить.
Дано мне тело
Если Фрейд картографировал жуткое как возвращение вытесненного психического, то современный философ Дилан Тригг занимается плотью. В книге «Нечто» жуткое — не просто психологический феномен, а фундаментальная структура субъективности как таковой. Мы всегда уже «заражены» инородным, располагаемся на зыбкой границе между знакомым и чужим, человеческим и нечеловеческим. И нигде эта граница не проявляется острее, чем в опыте собственного тела.
Тело кажется нам самым близким и неотъемлемо нам принадлежащим; мы говорим «моё тело» с той же уверенностью, с какой Декарт говорил «я мыслю». Но болезни превращают тело во врага; травмы обнажают его хрупкость; взросление, а потом старение делают его чужим, непослушным и непонятным.
Тригг вводит понятие «телесного ужаса» — переживания собственной плоти как чего-то инородного, отвратительного, непостижимого. Это не просто неприятно, здесь рушится сама граница между субъектом и объектом, этот опыт онтологичен: тело восстаёт против нас, становится автономной сущностью, вступившей во враждебный нам сговор с силами внешнего мира. Мы носим в себе собственную инаковость. Классическая феноменология говорила о «живом теле» (Leib) как основе нашего бытия-в-мире, но Тригг смотрит на эту воплощённость иначе: тело — не дом для субъективного сознания, а беспокойный сосед, с которым приходится как-то уживаться. Триллионы чужеродных организмов делают наше тело буквально не нашим, и мы населены легионами Других — тело не крепость, а проходной двор.
К примеру, анорексию часто трактуют как невротическое стремление к контролю над телом, но Тригг видит здесь платоническую попытку избавиться от телесности вовсе и стать чистым духом: анорексик воюет не с лишним весом, а с самим фактом своего воплощения, втиснутости во что-то, что имеет размеры и вес. Это метафизический бунт против материальности, но чем больше мы пытаемся трансцендировать тело, тем навязчивее оно о себе напоминает. Голод, слабость, головокружение — плоть мстит за попытку её отрицания. Тело-тюремщик становится особенно жестоким, как раз именно когда мы пытаемся сбежать из «мясной избушки».
Юджин Такер писал об опыте «космического ужаса» перед равнодушным…
…и потому холодным и беспощадным миром-без-нас;
Тригг же видит в нашем теле микрокосм, отражающий безразличие макрокосма. В нём действуют те же слепые силы, что движут галактиками и атомами; и, например, рак — это космический катаклизм типа взрыва сверхновой с последующим образованием чёрной дыры, но на клеточном уровне.
Но Тригг не впадает в привычный для западной культуры после Платона дуализм духа и плоти: для него важна их тревожная взаимная зависимость. Сознание вплетено в телесную ткань, пропитано телесными соками, подчинено телесным ритмам. Мысль пахнет потом и кровью, а дух липок от выделений — эта неразделимость и порождает ужас: мы не можем сбежать от или из тела, потому что мы и есть тело. Тем не менее с ним невозможно полностью отождествиться, потому что оно постоянно обнаруживает свою чуждость. Мы застряли в зазоре между «быть» телом и «иметь» тело.
Тригг, как и упомянутые выше авторы, не предлагает выхода, но предлагает модус обитания в этом промежутке — нельзя преодолеть телесность, излечить её как патологию или гармонически интегрировать факт своей воплощённости, а значит, единственный осмысленный путь — «оставаться с проблемой» как с экзистенциальным условием. Ведь именно эта чуждость делает нас людьми: животные полностью совпадают со своими телами, машины вообще не имеют тел в феноменологическом смысле, и только человек наделён даром переживать телесность как вызов.
Богословие ужаса
Что ж, продолжаем экскурсию по Пустому Дому. Мы спускались в подвал, теперь же поднимемся на чердак — там занимаются мистическим богопознанием.
Религиозная практика, устремлённая к полноте Божественного присутствия, казалось бы, не может иметь ничего общего ни с чем тёмным и пугающим, однако никакая духовная традиция не бывает без парадокса — неизбывной связи между священным и ужасным. Один из ярчайших примеров такого «теологического хоррора» мы находим у автора V–VI веков, известного под именем Псевдо-Дионисия Ареопагита. В своих трактатах «О божественных именах» и «Мистическое богословие» он развивает учение об апофатическом пути — пути последовательного отрицания.
Согласно Псевдо-Дионисию, Бог по своей природе непостижим и невыразим. Все понятия и имена — продукты ограниченного человеческого разума (который, как мы показали выше, сам по себе — продукт множества не всегда человеческих процессов). Ни схватить, ни тем более охватить полноту Божества с их помощью не получится. Поэтому истинное богопознание — это систематическое развоплощение всех атрибутов; например, внутри этой методологической рамки можно говорить, что Бог не благ, не мудр, не существует — не потому, что Ему недостаёт этих качеств, а потому, что Он бесконечно их превосходит.
Следуя этим путём, боговидец погружается в «Божественный мрак» — этим роскошным выражением Ареопагит обозначает состояние абсолютного неведения и свободы от всех образов и понятий. Другие мистики использовали для этого термины «пучина незнания» (свт. Григорий Нисский), «мрак неве́дения» (св. Бонавентура), «учёное незнание» (Николай Кузанский), «облако неве́дения» (анонимный английский мистик), «тёмная ночь» (св. Иоанн Креста), «отчуждённость» (Майстер Экхарт) и так далее — как видим, это мистический инвариант. Важно понимать, что такой мрак — это не отсутствие, а, напротив, избыток света, «засвечивающий» человеческий ум как фотоплёнку.
Псевдо-Дионисий описывает этот опыт в терминах ужаса и трепета: душа, переживающая безмерность Божества, испытывает головокружение и смятение; встреча с Абсолютом оборачивается онтоэпистемологической катастрофой и крушением всех ориентиров. Бросившись в этот омут, душа претерпевает «блаженное исступление».
Сиротство как удочерённость
Переместимся на полторы тысячи лет вперёд, чтобы познакомиться с Симоной Вейль, соединившей радикальную социальную критику с глубочайшим духовным поиском. Прожила она недолго, и всё свою жизнь провела в крайней нищете и самоотречении. Так вот, один из ключевых мотивов её размышлений — необходимость абсолютного принятия Божественной воли во всей её непостижимости через «декреацию» — добровольное самоуничтожение, в котором «я» уступает место Богу. Душа должна согласиться на собственное несуществование, стать «ничем» перед лицом божественного «всего».
Для Вейль истинная любовь к Богу неотделима от переживания богооставленности. Бог обнаруживает себя именно через отсутствие, через бесконечную дистанцию, отделяющую тварь от Творца. И соединиться с Ним мы можем, только разделив до конца это Его онтологическое сиротство: в муке распятия Иисус воплощает предельное истощание Бога — Его нисхождение в бездну богооставленности. «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» — этот крик маркирует точку, где сам Бог испытывает ужас отсутствия Бога. На Кресте сходятся противоположности: всемогущество и бессилие, полнота и пустота, присутствие и отсутствие. Бог добровольно становится слабым и отступает, чтобы дать место любви. Кенозис — самоопустошение Божества — оказывается высшим проявлением Его силы.
Не-богословие
Наконец, обратимся к самому радикальному мыслителю «экстатической негативности» — Жоржу Батаю, который превратил самого себя в лабораторию предельного опыта. Всю жизнь он вёл экзистенциальный эксперимент, испытывая пределы человеческого через трансгрессию. Он основал тайное общество «Ацефал» — это слово указывает на фигуру безголового Бога, символизирующего отказ от рационального господства.
В отличие от вышеупомянутых мистиков, для Батая сакральное — это не трансцендентный Абсолют, а имманентная «суверенность», обретаемая через утрату субъектом своей обособленности и через растворение в экстатическом единстве с миром, когда границы «я» разрушаются.
Ключевое понятие батаевской мысли — «внутренний опыт». Речь тут идёт не об аффекте и не о религиозном экстазе в привычном смысле. Это опыт распада всех опор — рациональных, эпистемологических, этических, онтологических — и провала в то, что Батай называет «ночью». «Внутренний опыт» невозможно вызвать усилием воли или достичь какой-то практикой. Он всегда случается сам — иногда в эротическом исступлении, иногда перед лицом смерти — и переживается как вторжение Иного в обыденность, когда рушится индивидуация, и человека захватывает безличное.
Живые организмы, говорит Батай, производят избыток, который растрачивается в росте, размножении или смерти, и только Солнце расточает энергию абсолютно бесцельно (и в общем-то, то же самое делает жертвенный Бог христианства, расточающий и истощающий Себя, согласно формулировке Жана-Люка Мариона, вплоть до Своего исчезновения).
Уникальность (и, добавим, богоподобие) человека именно в том, что он способен на сознательную саморастрату без корысти — в празднике, жертвоприношении, искусстве. Что, впрочем, не приветствует современная цивилизация, подчинённая логике производства, накопления и роста и изгоняющая из мира священное. Атеология Батая — это попытка вернуть миру сакральность нетеологическим и нерелигиозным способом, доводя нигилистический мрак до крайности.
Хотя Батай часто использует язык апофатического богословия: «неведение», «обнажение», «пустыня», «бездна», он делает Бога фигурой абсолютного умолчания и не ищет никакого света; для Батая искомым состоянием оказывается само погружение во тьму. Он отказывается говорить о какой-либо трансценденции; суверенный предельный опыт имманентен. Человек получает его, выходя за пределы человеческого не вверх, к сверхчеловеческому, а вниз, к до-человеческому, к той точке, где жизнь ещё не отделилась от смерти.
Наследие Батая остаётся проблематичным. Можно ли основать философию не деструкции всех оснований? Можно ли превратить в метод фундаментальное отсутствие метода? Нет, он не даёт никаких ответов или рецептов, а лишь свидетельствует о собственном опыте за пределами философии, религии и самого языка.
Для нас Батай важен как мыслитель, доведший апофатическую логику до крайности: если путь к Богу лежит через отрицание, то к чему полумеры? будем отрицать всё, включая само отрицание. Теология не могла и помыслить о том, чтобы сакральное было неотличимо от проклятого, чтобы экстаз граничил с ужасом, а человек обнаруживал бездну в себе самом и прыгал в неё с открытыми глазами.
Что объединяет перечисленных нами мыслителей? Общая парадоксальная интуиция: путь к Абсолюту пролегает через Ничто, Божественное присутствие неотделимо от метафизического ужаса, а мистическое единение достигается через погружение в бездну. Сама категория Бога трансформируется: теперь Бог — это Безымянное, Иное, Чуждое, Чёрное Солнце, Дыра, зияющая в основании мироздания.
Апофатическая философия учится (и учит нас) мыслить трансцендентное как неустранимый зазор в структуре бытия — и искать Бога именно там, где расколдованный посюсторонний мир даёт трещину.
Заключение: сносная тяжесть небытия
Наша экскурсия по Пустому Дому подходит к концу. Позади остались комнаты, населённые микробными легионами, коридоры нейрофилософских иллюзий, подвалы психоаналитического жуткого, чердаки апофатического богословия. Каждая дверь, которую мы открывали, вела только глубже во тьму. Каждое зеркало, в которое мы заглядывали, показывало новую степень распада привычного «я». Но если это не убило нас, мы стали сильнее: тот, кто уже был никем, не боится потерять себя.
В этом тексте предпринимается попытка «оправдания ужаса» — деймодицеи. Деймодицея работает как распределяющий клапан тройной машины ужаса. Инвазивный режим оправдывается тем, что «чужое внутри» напоминает: мы принадлежим не только себе, а потому способны к состраданию — к встрече с другим без претензии на господство. Имплозивный ужас разрушает бытовую оболочку «я» и тем самым тренирует быть-конечным: сжимаясь до предела, сознание обнажает радикальную свободу решать, что оставить, а что выбросить за борт. Эксплозивный же режим, взрывая карту мира, открывает место творческому жесту: там, где прежние координаты разлетелись, можно впервые начертить новую сетку смыслов. Таким образом, деймодицея не сводит ужаса к морали, а показывает, что каждый из трёх модусов уже содержит в себе зерно продуктивной этики — этики заботы, конечности и изобретения.
Опыт ужаса амбивалентен: с одной стороны, он травматичен, разрушителен, едва выносим, он обрушивает привычный мир, ввергает в безумие. Но с другой — перед лицом чистого Ничто с нас слетают маски и покровы, и нам открывается доступ к подлинному. Хайдеггер называл Angst «органоном» аутентичности: в тревоге человек вырывается из анонимного диктата das Man («людей»), из повседневной суеты мелочных забот, а вырвавшись, сталкивается с заботой (das Sorge) предельной — так как обнаруживает собственную конечность.
Это болезненно. Покидая платоновскую пещеру, мы слепнем от безжалостного света, и потому называем этот свет тьмою. В этой темноте мы перестаём притворяться и обнаруживаем себя такими, какие есть — брошенными в мир, смертными, одинокими, но именно поэтому способными на подлинный выбор. Но в точке крайней обнажённости, когда больше нечего терять, все защиты сломаны, а все надежды оставлены — именно тогда может случиться то, что можно назвать «тёмной эпифанией», признание самой тьмы как последней реальности — и странное, почти весёлое примирение с ней. Или, скорее, это выход по ту сторону самой оппозиции бытия и ничто, смысла и бессмыслицы.
В конце туннеля нет света — там вообще нет никакого туннеля, а только это странное мерцание на границе присутствия и отсутствия.
Было бы соблазнительно навсегда остаться в странном пространстве Пустого Дома, где субъект растворён в множестве нечеловеческих агентностей и сама идея автономной личности оказывается наивной иллюзией.
Некоторые философы «тёмного поворота» именно это и делают — обустраиваются в руинах, превращая онтологический пессимизм в удобную интеллектуальную позу.
Но вспомним алхимическую мудрость: нигредо — это рабочая стадия, а не финал. Тьма — режим видения, а не финальный вердикт. Стоит вспомнить Мортона: «Ужас открывает оптику заботы». Чернота, гниение, распад — необходимые этапы Великого Делания, но застрять в них означает упустить саму суть трансформации. За нигредо следует альбедо — выбеливание, очищение.
Хеллоуин — это время, когда граница между мирами истончается, и мёртвые могут навестить живых, а живые — заглянуть на «ту сторону». Но это и Канун Дня всех святых — преддверие, порог, а не конечная точка; в самой чёрной ночи уже брезжит рассвет. И пожалуй, даже не беда, если этот рассвет окажется не возвращением ушедшего света, а какой-то новой и невиданной конфигурацией света и тьмы.



