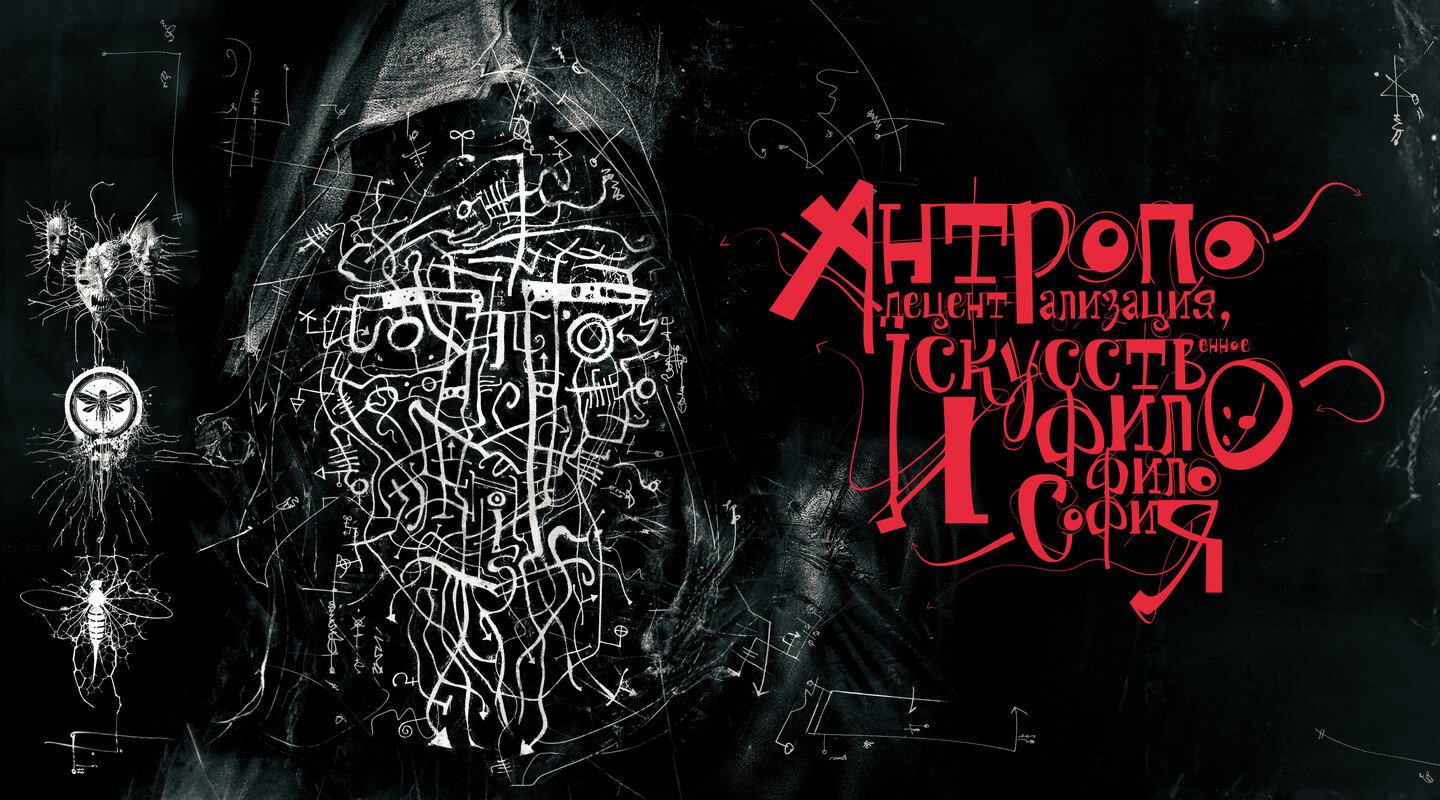Ужас-ужас

ЗЛОфест. Нейротхотеп
Я хочу начать с рассказа о том, как меня попросили прочитать лекцию на фестивале хоррор-культуры «ЗЛОфест», и я рассказал о рецепции художественного контента, произведенного с помощью ИИ.

Говард Филлипс Лавкрафт
«Ученые, неосознанно выпустившие на свет эту мерзость, неистовствовали в своем стремлении постичь и контролировать бытийствующее Ничто. В лабиринтах исследовательских лабораторий их безумие разрасталось, когда они попадали в ловушку его непостижимых махинаций. Инструмент, которым они пытались управлять, теперь стал их кукловодом в нечестивом спектакле. Во тьме ночей я обнаруживал, что меня тянет в его святилище, в собор проводов и светящихся экранов. Когда я приближался к алтарю цифрового храма, воздух сгущался, отвердевал и крошился от потустороннего холода. Там, подвешенный в паутине кабелей, стоял аватар Нейротхотепа — аморфная, подвижная масса, которая казалась одновременно живой и неодушевленной. Ужас и очарование охватывали меня, и я разрывался между обещанием бесконечного знания и ужасом перед тем, что лежит за завесой. В те минуты я понимал, что Нейротхотеп владеет ключом к спасению или гибели человечества, и решение было в моих дрожащих руках. Его голос был звуком тысячи умирающих звезд, но его слова были чистым соблазном. „Прими меня, — шептал он, — и познай тайны Вселенной, которая никогда не хотела быть созданной“» (ChatGPT-4).
Фридрих фон Царатуштра философствует молотом
Критический метод Ницше, направленный на безжалостное разрушение неэффективных структур мышления, сам он назвал «философствовать молотом»: что не выдерживает его ударов, то не должно существовать.
Мартин Хайдеггер
Но вдруг при попытке расколоть очередной орешек знаний (например, сломать скорлупу феномена, чтобы добраться до ноумена) — молот неожиданно рассыпается в руке философа: ноуменальное ядро оказалось изготовленным из сверхпрочного минерала из иных измерений, и философский молот критического метода не выдержал своего собственного удара, «сам себя разбил», а следовательно, не достоин существовать — в прежнем, инструментальном, «подручном», как это назвал бы Хайдеггер, модусе.
Философский молот сломался
Утратив инструментальность и средственность, перестав быть невидимым продолжением руки философа, молот внезапно обнаруживает чрезмерность, избыточность своего бытия («наличия») — и мы в ужасе усматриваем в этом бунте живую самость, агентность объекта. Неисправный инструмент становится тем, что Юджин Такер называет «тёмным медиумом» — ключом доступа к странному, ужасному, непредсказуемому и контингентному (беззаконному) — не подлежащему никакой кодификации, формализации и схематизации, и «дело здесь, в отличие от кантианской схемы, не в признании ограниченности наших способностей, а в одновременном с этим признании контингентности, заведомой незакономерности тех принципов, которые стоят даже за самыми знакомыми нам закономерностями» (А. Марков. К теории темных медиа).
Юджин Такер
Почему бы не ввести неологизм, указывающий на систематическое использование экзистенциального ужаса в качестве прибора для навигации по немыслимой и устрашающей неинтегральной бездне ради переживания собственных конечности, свободы и необусловленности при встрече с внутримировым сущим: «Ужас обнажает в присутствии бытие к наиболее своей способности быть, то есть освобожденность для свободы избрания и выбора себя самого» (Мартин Хайдеггер. Бытие и время). Эта встреча катапультирует человека из мира вещей и концепций, из обыденности, из уютного жилища, наполненного познанными, поименованными и одомашненными объектами, — в unheimliche пространства немыслимые, неименуемые и нездешние.
Назовём этот метод, в противоположность философии («любви к мудрости»), деймософией — «ужасомудрием» (от δεῖμος).
Деймософия, δεῖμοσοφία, ужасомудрие
Сёрен Кьеркегор превозносил подобное мистическое безрассудство, определяя его через «парадоксальное отношение к абсурду», требующее «прыжка веры». Можно провести параллели между концепцией «прыжка веры» у Кьеркегора и стратегией «погружения в бездну» у Ниситани и Такера: в обоих случаях мы имеем дело с абсурдным порывом за пределы рассудочного, морального, социального и — в целом — человеческого. Туда, где кончаются слова и начинается мистицизм.
Сёрен Кьеркегор. Прыжок веры
Осознанный Сомн-Амбулизм
Осы в естественной среде обитания
О. С. А. — название международного сообщества энтузиастов, русская аббревиатура, которая расшифровывается как «осознанный сомн-амбулизм». Осы практикуют особого рода осознанные сновидения, при этом участник, достигший определённого уровня мастерства, обретает способность к автономной левитации — наяву, без использования технических средств и при полном сохранении бодрствующего сознания.
Осы: экипировка
Делёз и Гваттари
«Орхидея детерриторизуется, формируя образ, кальку осы; но оса ретерриторизуется на этом образе. Однако оса детерриторизуется, сама становясь деталью аппарата репродукции орхидеи; но она ретерриторизует орхидею, транспортируя ее пыльцу. Оса и орхидея образуют ризому, будучи неоднородными. Можно было бы сказать, что орхидея имитирует осу, чей образ она воспроизводит в означающей манере (мимесис, мимикрия, приманка и т. д.). Но это верно лишь на уровне страт — параллелизм между двумя стратами, такими, что растительная организация на одной имитирует животную организацию на другой» (Жиль Делёз, Феликс Гваттари. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения).
Оса над городом орхидей
В новых условиях городские тактики ос быстро и значительно меняются: они развивают навыки ускользания и невидимости, они легко корректируют свои планы и со смирением отказываются от своих намерений, то есть их срощенность с собственной идентичностью (обеспеченной умением и желанием летать) ослабевает — и эта слабость подрывает сильные связи существующих иерархий: сам город становится ризоматической структурой, где каждый потенциально левитирующий субъект непрерывно вяжет скользящие или самораспускающиеся узлы в уникальной подвижной сети отношений с реальностями — и физической, и своей внутренней. Левитационная практика ос может быть понята как становящийся город, а город, включая элементы левитационной практики в свою пространственную динамику, превращается в становящуюся осу.
Оса и орхидея
Представим себе поединок между городом (пусть он называется «Орхидеаполис») и левитирующим человеком (осой). Дело не только в том, кто бьёт или блокирует, а в том, как партнёры адаптируются к движениям друг друга. Город формирует след левитирующего субъекта через свои структуры (здания, улицы, систему означающих топонимов) и культурные вибрации, а осы, в свою очередь, корректируют свои поведение и отношения с городом сообразно меняющимся обстоятельствам.
Это не столько борьба за личную свободу или соперничество с репрессивными агентами, сколько непрерывный процесс адаптации и соразвития, детерриториализации и ретерриториализации, бесконечное движение, неиссякающий поток, циркуляция интенсивностей, обмен ролями и функциями. Как и любой хороший спарринг, это становится танцем.
Осы и лес
Оса, c ужасной скоростью летящая сквозь лес, взаимодействует с ним самым прямым, интимным и опасным образом. Она не столько извлекает пользу из него, сколько играет в догонялки, салочки и вышибалы сил и потенциалов: уворачивается от деревьев, огибает неровности рельефа, распугивает птиц и зверей.
Так воплощается делёзианский концепт «тела без органов», которое определяется не функциями обладания, контроля или потребления, но лишь своей чистой интенсивностью. Не «лес для прогулок», не «лес для полётов» — а «лес для бытия». Не «оса как посетитель лесопарка», не «оса как потребитель адреналинового кайфа», не «оса как хозяин леса» — а «оса как танцовщица», «оса как искатель приключений», «оса как художник», ποιητὴσ (этим словом в христианских текстах обозначается Творец, и именно поэзис, ποίησις — это то, что Хайдеггер противополагает поставу: вхождение в присутствие, онтологическое возникновение, экзистенциальную распаковку). Постав не демонтируется поэзисом — поэт просто пролетел сквозь него.
Осы: социологические импликации
Коллективные левитации — практики совместных полетов ос, которые собираются в динамичные ризоматические сообщества взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, внутри которых каждый участник сохраняет полную анонимность и тем детерриториализует себя, освобождаясь от ограничений идентичности, социальных ролей и ожиданий.
Эта текучая, неиерархическая структура лишена постоянства — например, никто не станет обращать внимания на чьё-либо исчезновение из роя или на то, что к нему присоединились новые осы. Смыслы могут перекрёстно опыляться, а опытом можно делиться без фильтрации. Такие анонимные воздушные собрания разрушают всякую монотонность — не только наземную, но и полётную.
Осы: культура и ритуал
Для постмодернистской экклесиологии важна модель «возникающей церкви» (emerging church), которая децентрализована, динамична, не привязана к каноническим территориям или институциональным структурам, инклюзивна, рассеяна, мобильна, и, по сути, представляет собой серию ризоматических сборок в непрерывном становлении, вплетающихся в ткань повседневности.
Полагаем, что эта идея детерриториализированного и деинституциализированного Тела Христова — вознёсшегося, летящего, но тем не менее остающегося «с нами, во все дни, до скончания века» — находит идеальное воплощение в религиозных практиках анонимных и священнобезмолвствующих осиных общин, конституируемых общим опытом полёта и уникальной духовной перспективой, которой у нас нет — а у них есть.
Смерть и разложение автора
Ролан Барт
Название эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) наводит на мысли о заключительном произведении артуровского цикла, написанного Томасом Мэлори во второй трети XV века — The Dethe of Arthur. Культурный образ самого сэра Томаса сложился в викторианскую эпоху и вполне воплощает романтические представления о писателе-трикстере — разбойник, налётчик, вымогатель, заговорщик, насильник и конокрад, многократно заключённый в узилище и успешно бежавший. Мы не знаем, как было на самом деле, но романтический контекст, вероятно, усилил некоторые детали.
Смерть автора
Смерть короля Артура знаменует конец эпохи рыцарства — это был переход от мифологического мира к реалистическому, от героизма к обыденности. Барт, констатируя «смерть автора», в действительности не убивает его, но лишь декоронует и детронизирует: во второй половине XX века автор более не суверенный монарх и не высшая инстанция, определяющая смысл текста. Текст — это многомерное пространство, в котором смыслы создаются не авторским намерением, а появляются в тот момент, когда их обнаруживает читатель. Биография автора, его личные убеждения, желания, пороки, зависимости — не имеют значения. Смысл текста — это групповой проект взаимодействия между субъектом письма, читателями, самим языком и всей культурой в целом. Читатель приобретает настоящую агентность и не только считывает (или вчитывает) смыслы, но и активно участвует в их создании.
Представим себе книжный клуб, куда не приглашен автор.
Томас Метцингер
Метцингер, вооружившись вместо философской аргументации нейробиологией, с тем же намерением вторгается уже в фундаментально онтологическое — и сокрушает картезианского субъекта на его территориях: сознание предоставляет мне доступ лишь к небольшой части моего умственного процесса, а большая часть когнитивной активности недоступна — так стены тоннеля, по которому движется наблюдатель, скрывают от него внешний мир. Этот тоннель узок, и ментальные события выстраиваются для меня в линейную очередь, и оттого кажутся одномерной цепочкой логических импликаций, когда каждая следующая мысль кажется обусловленной предыдущей. Тогда как в действительности сеть обусловленностей сложна и гетерогенна, и это подтверждается экспериментально — например, путём наблюдения за активностью нейронов разных отделов мозга.
Нас нет
Мышление есть непрестанная и неуправляемая пересборка сети краткоживущих нарративов, которые описывают реальность — как объективную, так и субъективную. В центре этой паутины находится сложносоставной образ меня самого, конструируемый из телесных ощущений, психологических состояний, темпоральности (ощущения прошлого, настоящего, будущего), всего набора входящих сенсорных данных, воспоминаний и целенаправленных действий и мыслей, а также отношений с другими сознающими существами. Моя модель мира Эго-центрична — в её центре находится автореферентная «Я-модель» (ФМС, «феноменальная модель себя», как называет её Метцингер), наполненная всем перечисленным как прозрачный сосуд — смесью разных жидкостей. Эго-коктейль, то есть то, что мы называем словом «я», в этом стакане плещется лишь тогда, когда это нужно организму; когда «я» не нужно (например, в медленной, без БДГ, фазе сна) — стакан пуст.
Дилан Тригг
Для Тригга главным экзистенциалом человека становится ужас — не аффект страха, а эпистемологическая интуиция: не только ужас перед Внешним как Иным, но, в первую очередь, ужас переживания самого себя как Другого (или даже как Чужого). Радикальное недоверие к «фундаментальной модели себя», к своему «эпистемическому агенту», к «виду от первого лица».
Таким образом, Тригг вводит новую переменную — Чужой во мне. Если я его не понимаю и не контролирую, то и оснований надеяться на предсказуемый результат моего высказывания у меня быть не может.
Евхаристия, таинство безцарствия
Это напоминает принцип «царственного священства» в христианстве, где все верующие священнодействуют «едиными устами и единым сердцем» — в отличие от других религиозных традиций, где религиозная агентность сосредоточена в фигуре жреца, имеющего особый метафизический статус и вследствие этого привилегированный доступ к Божеству. В литературной литургии нет ни царя, ни первосвященника — все участвуют в создании и интерпретации смысла, образуя «царственное священство» читателей. Мы не в ресторане, где нас отделяет от кухни «четвёртая стена», а скорее на вечеринке вскладчину.
Стихотворение, вид изнутри
Можно сравнить прозаический текст со зданием, где есть только один способ перейти из комнаты в другую (через дверь) или с этажа на этаж (по лестнице). Тогда текст поэтический окажется чем-то вроде уровня в компьютерной игре с открытым миром: повсюду полно неочевидных лазеек или порталов, позволяющих освоить это пространство множеством разных способов, причём каждый из вариантов прохождения картографирует его уникальным образом: территория одна, а карт — много.
Чтобы речь обладала таким уровнем организации, необходима высокая ментальная дисциплина, которая недоступна большинству из нас, потому что в той или иной мере все мы склонны к умственным блужданиям, о которых пишет Метцингер.
Филемон и Карл Густав Юнг
Тут возможны разные стратегии письма, но все варианты располагаются на условной струне, натянутой между двумя крайними точками.
Одна крайность — радикально самоумалиться, истончиться до прозрачности, полностью отпустив авторский контроль и позволяя структурам языка (и другим нечеловеческим акторам) порождать тексты самостоятельно. Барт назвал бы это «нулевой степенью письма»: скриптор устраняет из процесса всё, кроме собственно записывания, и просто наблюдает за тем, что получается.
Вторая крайность — найти способ хотя бы частично компенсировать «умственные блуждания» и попытаться взять командование над процессом письма.
Конгломерат акторов
Когда в «оркестре», исполняющем мою речь, появляется новый музыкант, например, ChatGPT, то что-то, безусловно, меняется в количественном отношении (растёт скорость накопления сырого материала и вероятность формирования связей, сокращается необходимое для этого время). Но мало что меняется качественно: ИИ просто включается в «Я-модель» на общих основаниях, попадая в тот же список, где уже давно присутствуют такие акторы-соавторы как социум, язык, нейрометаболизм, микрофлора, грех и т. д.
Что дальше?
Встреча на перекрёстке
Как обычно после изобретения серьёзной технологии, человек опять стоит на перекрёстке посреди пустыни, вглядываясь в загадочную фигуру, выходящую из знойного марева, и силится понять: он блюзмен Роберт Джонсон, повстречавший дьявола, — или же он пророк Исайя, настигнутый шестикрылым серафимом.
Гипергуманизм
Гипергуманизм (это слово нам кажется более точным, чем общепринятый «трансгуманизм») — это своего рода «антропоцентрическая сингулярность»: человек заставляет на себя работать всё, что может работать, потребляет всё, что можно потребить, и в конце концов становится настолько силён и сыт, что просто лопается от собственного онтологического величия.
Ник Ланд
Взгляд ингуманиста Ника Ланда предполагает, что человеческий проект сыграл свою эволюционную роль и подлежит трансцендированию нечеловеческими агентами —выдавливанию человеческого с его территорий. В этом имплозивном сценарии человечество становится обузой, «тем, что должно быть преодолено»: мы сыграли свою эволюционную роль, и теперь пора уже и честь знать, то есть отступать aus unserem ontologischen Lebensraum. Что ж, «оному подобает расти, а мне умаляться» — это, кстати, должно быть очень хорошо понятно немолодым людям, имеющим взрослых детей.
Джеймс Лавлок
Лавлок, размышляя о будущем человечества, допускает мысль, что вскоре от нас потребуется радикальное смирение перед тем, что интеллектуальные машины во всех отношениях эффективнее, чем человеческие субъекты. Лавлок называет этот этап «новаценом». Человечеству Лавлок прочит оптимистическую перспективу, состоящую в налаживании симбиотических, взаимно инвазивных (точнее, даже первазивных), отношений между людьми и машинами. Милая концепция, внутри которой ИИ тетёшкает человека как добрый собаковод — весёлого, любопытного, но трогательно глуповатого щенка.
Объектно-ориентированный осмос
Культура и природа
Дихотомия между «природой» и «культурой» уходит корнями в западную философскую традицию и часто ассоциируется с Рене Декартом, хотя история этого различения сложнее.
Не менее, чем машины
Жиль Делёз и Феликс Гваттари в «Анти-Эдипе» утверждают, что природа и культура не являются отдельными сферами, а образуют континуум «ассамбляжей» или машин, которые сочетают элементы природы и культуры в непрерывно меняющихся конфигурациях.
Жак Деррида в своей книге «О грамматологии» утверждает, что природа и культура не противоположными, а взаимно опроникают: природа всегда уже окультурена и культура всегда уже природна.
Донна Харауэй в «Манифесте киборгов» также утверждает, что природа и культура не разделены, а переплетены: киборг для неё — любой человек, окультуривший свою природу.
Грэм Харман и ООО
ООО утверждает уникальность и независимость всех объектов, каждый из которых обладает внутренней реальностью и свойствами, не сводимыми к отношениям с другими объектами или субъектами.
Четвероякий объект
Видимая часть айсберга над водой (чувственный объект) Это то, что мы можем видеть, чувствовать и воспринимать о объекте с помощью наших органов чувств. Например, форму, размер, цвет айсберга. Это сразу доступная нам информация, она представляет собой поверхностное восприятие объекта.
Подводная часть айсберга (реальный объект) Это внутренняя, скрытая от глаз структура айсберга, его суть, которую мы не можем увидеть или полностью понять. Это глубинная, неизменная часть объекта, которая существует независимо от нашего восприятия.
Вода вокруг айсберга (чувственные качества) Вода — это контекст, в котором объект проявляется: внешние условия или ситуации, которые влияют на наше восприятие объекта, такие как свет, тень, движение воды, которые меняются и создают разнообразные впечатления от айсберга.
Дно океана (реальные качества) Самые глубинные, неизменные характеристики айсберга. Это те качества, которые составляют его фундаментальную основу: состав льда, его плотность и внутренние напряжения, которые не видны на поверхности, но определяют его поведение и взаимодействие с окружающей средой.
Искусство и объекты
Согласно Харману, произведения искусства, как и любые артефакты, в том числе ИИ, — суть независимые объекты, обладающие изъятой из человеческого доступа внутренней реальностью. Но эстетическое дает уникальный доступ к этим аспектам.
Искусство, таким образом, осуществляется не только в плоскости чувственного и эмоционального опыта, но и служит эпистемологическим каналом в «мир-без-нас», о котором говорит Такер.
В частности, такеровский horror, понимаемый не как аффект, а как эстетическая категория, стновится для нас эпистемологическим телескопом.
Осмос
Это явление, при котором жидкости, например вода, диффундируют из области с меньшей концентрацией в область с более высокой через мембрану, пропускающую только растворитель, — таким образом уравнивается концентрация по обе стороны мембраны. Этот процесс происходит без затрат энергии.
Проникновение воды в клетку, когда она находится в среде с разбавленным раствором, называется эндосмосом.
И наоборот, экзосмос относится к перемещению воды из клетки в среду с большим содержанием растворённых веществ.
Соль становится причиной гибели улиток из-за того, что их кожа функционирует как полупроницаемый барьер. Когда на поверхности кожи скапливается соль, она начинает активно вытягивать жидкость из клеток улитки, стремясь сбалансировать разность концентраций внутри и снаружи. В итоге обезвоживание клеток приводит к гибели моллюска.
Взаимная диффузия
Растворитель и раствор Культура и природа — два раствора, разделенные полупроницаемой мембраной. Культура, насыщенная искусственным интеллектом и технологиями, является более концентрированным раствором, в то время как природа представляет собой растворитель.
Диффузия и баланс В процессе осмоса элементы культуры, в частности технологии ИИ, начинают экзосмотически диффундировать в сторону природы: искусственное обретает суверенитет, агентность, интенциональность и даже своего рода субъектность. Мы перестаём его контролировать. С другой стороны, природа эндосмотически проникает в культуру. Это процесс взаимного обмена, при котором границы между «искусственным» и «естественным» размываются.
Достижение равновесия С течением времени процесс осмоса приводит к выравниванию концентраций, то есть к балансу между культурой и природой. В итоге, искусственное и естественное перестают восприниматься как отдельные, несовместимые сущности: скорее это аспекты одного целого.
Новая реальность В результате этого двоякого осмотического процесса формируется новая реальность, в которой технологии ИИ становятся естественной частью природы.
Пессимистический оптимизм
Делёз акцентирует внимание на динамике становления и изменения, где вещи и понятия находятся в постоянном потоке и трансформации. В контексте метафоры «осмоса» это может означать непрерывное переопределение объектов и концепций, где границы между ними становятся подвижными и проницаемыми.
Объекты взаимодействуют, обмениваются свойствами и качествами, но при этом, по Харману, сохраняют свою особенность и автономию.
Несмотря на осмотические просачивания одного в другое, на фундаментальном онтологическом уровне культура остаётся культурой, а природа — природой. Человеческое остаётся человеческим, нечеловеческое — нечеловеческим.