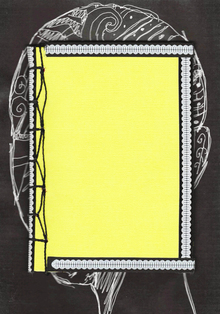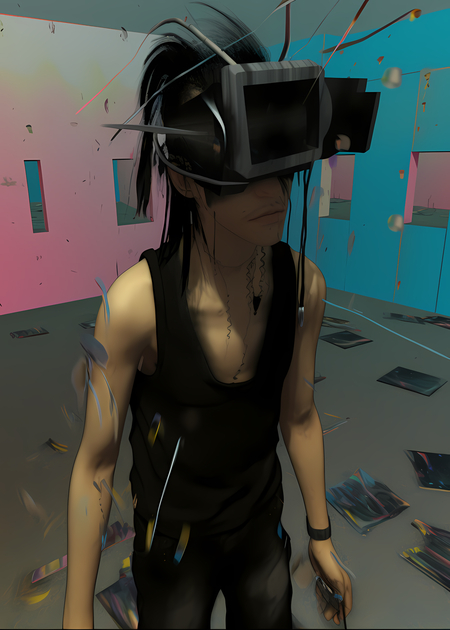
Киберперформанс. Кто там шагает левой? Или нет…
Перформанс, как только родился, сразу же устремился ко всему левому и авангардному. К переосмыслению жанровости и институциональности, провокативному левому высказыванию. Перформанс, пожалуй, сильно больше прочих жанров противопоставляет себя капитализму. Его трудно продать. Его сложно отчуждать от художника. Хотя, конечно, его возможно продать, как можно продать любое шоу.
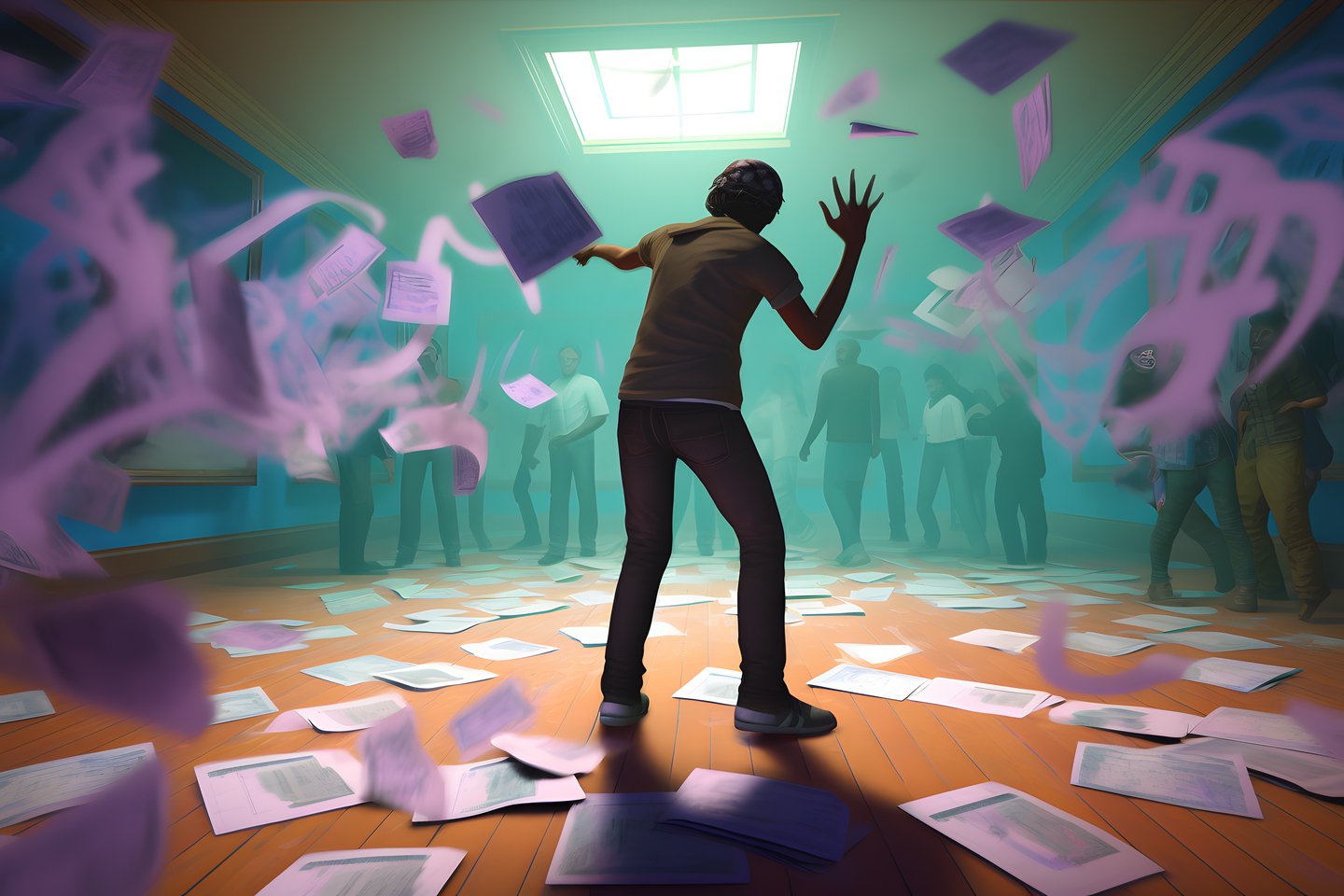
И все же даже самое-самое левое искусство фактически не может пока существовать без капитала. Капитал создал институции, которые обладают властью определять, что актуально, что авангардно, а что является творческим гулом человеческого вида. Перформансист, как и любой другой художник, хочет быть услышан, увидеть значимость своих действий, ощутить включенность в контекст. Без взаимодействия с институциональными организациями это сложно осуществить.

Институт же, ради удержания своей значимости и легитимности носителя абсолютного знания об искусстве, должен постоянно определять повестку, заниматься производством выставок, исследований, площадок, фестивалей. Все это невозможно без капитала. А за большим капиталом всегда стоит мысль, которую транслирует капиталист. Это не обязательно пропаганда, но деньги всегда сущностно аффилированы со своим происхождением. А это уже сообщение.
Желание уйти из-под этой опосредованной аффилиации у институционального художника есть, как минимум потому, что это размывает его собственный месседж. Тем более у левацки настроенного художника.
Последние годы мы наблюдаем тренд на создание экономических систем горизонтальной организации: карудфандинг, блокчейн, коворкинги и прочее. Параллельное движение происходит в арт-среде. Рост квартирных выставок, поиск нестандартных выставочных пространств. Он-лайн выставки и фестивали заявили о себе еще до пандемической ситуации.
Киберпространство манит своей свободой, он-лайн галерея теоретически доступна каждому из 4,5 миллиардов людей подключенных к сети. Каждый может создать шоу, каждый может смотреть, каждый может быть замечен. Этой легендой кормится свежецифровое поколение.
Впрочем думая о будущем, хочется вернуться в прошлое. В древней Иудее самой актуальной интеллектуальной практикой было толкование законов Торы. Это не только и не столько Пятикнижие, сколько огромный свод текстов и интерпретаций текстов: теологических, этических, законодательных, естественнонаучных и мистических конечно. Самым важным органом научно-судебной власти был Синедрион. По смыслу он ближе к Академии наук, если бы та обладала полномочиями издавать законы.
Это была организация, которая сосредотачивала в себе всю самую актуальную мысль на тот момент времени. Но при этом мудрейшим представителям своего поколения, запрещалось получать оплату за свою исследовательскую и законодательную деятельность. Не только деньги, любые блага. Все должны были иметь профессию и работать. Смысл этого запрета: охрана их исследовательской оптики от внешнего влияния. Иначе говоря, влияние капитала было изъято из этой системы.
Эта система существовала достаточно долго, до тех пор пока существовала еврейская государственность. С началом рассеяния евреев по миру, поддерживать эту систему стало сложно. Появилась должность раввина, которому каждая отдельная община вскладчину платила зарплату за подобную деятельность, но часто его финансировала определенная узкая группа людей. Это была все еще уважаемая, но уже весьма зависимая профессия.
Это, естественно, аллегория на положение институциональной критики современного искусства и ее зависимость от капитала. Сложно согласиться с таким положением вещей. Без критики нет самого искусства, критик создает знание, создает профессионального зрителя, или хотя бы полупрофессионального. И все-таки если эта система не горизонтальна, если в ней нет самоорганизации, ее подозрение, что ее оптика нарушена.
Не выиграет ли искусство от того, если профессиональная деятельность в этой сфере перестает быть работой. Зачем объект должен быть продан? Если его задача быть увиденным, воспринятым. Искусство не может распространяться без денежных контрибуций. Организация процессов не может существовать без капитала, но возможно ему стоит иметь не одно лицо.
Конечно надеяться на новую экономику это идеалистический подход. Переход полностью на систему краудфанидинга, может ориентировать производство на массового потребителя, а его вкус и мнение точно ничем не лучше одного конкретного мецената.
Капитал становится мерилом всего, если искусство продается, если критик издается, если объект искусства стоит дорого, значит это все ценно. Все, что осталось за бортом товарно-денежных отношений, приравнено к художественному бормотанию, никому это не интересно. Слишком железная логика. Поэтому ощущается устаревшей и неактуальной логикой богатого белого здорового человека прошлого века, который хочет окружать себя красивыми внушительными вещами.
Население планеты состоит из маленьких людей с их маленькими ощутимыми проблемами. И мысль их куда точнее передает искусство, сделанное на последние деньги, дешево, на коленке, которое после выставки отправится в утиль. В нем громче и отчетливее слышен дух времени, нежели за огромной, дорогой, эффектной инсталляцией на большую и важную тему. Экология, эхо войны, большая трагедия против простых и понятных слов слабых людей.
Возможно, в небольших замкнутых сообществах горизонтальной организации, искусство сможет найти новые языки, которые недоступны в области «большого спорта».
При этом сегодня эти сообщества не обязательно таковы. Возвращаясь к теме киберпространства и перформанса. Искусству в сети практически не нужен капитал. Все средства цифрового производства и распространения легко доступны. Перформанс по своей сути демократичен и близок к той тематике маленького человека.
Для перформанса нет художника и зрителя, есть полиавтор, внутри которого актор и наблюдатель живут одним. Обоим перформанс предлагает исследовать себя. Да это снова про горизонтальные связи.
Киберперформанс доступен всегда и везде, он никогда не заканчивается, он дешев, доступен, демократичен, не доминантен, не мучает зрителя, не требует от него профессиональности, а значит институализация уходит на второй план. Перформер работает с тем опытом, который есть у зрителя сейчас. Он хост площадки, но в ней соединяется со зрителем.
В такой связке, художнику важен зритель как соавтор, а зрителю важен перформер как источник нового опыта. Создается пространство для взаимодействия, помощи, близости, поддержки.
Художник не пользуется зрителем, помогая ему, он вместе с ним проходит через новый опыт. Даже через пространство сети чувство внимания и значимости которое получает зритель, ощущается как реальное благо.
В такой системе отношений значимость художника определяется не стоимостью его работ, а эффективностью его искусства и его социальных связей. Наличием активного отклика зрителя. Прямого контакта в любой момент времени.
Да, от нет-арта сложно ожидать те же ощущения, что мы хотим получить от большой инсталляции в центре современного искусства. От такого объекта несет мускусом силы, денег и власти. В сети ты не приобщишься к мощам святых художников. Однако сегодня все это мускульное искусство все равно питается, благодаря сети и обновляется в ней, множатся репостами в бесчисленных онлайн галереях соцсетей. Если выставка не оставила след в сети. Ее не было.
Может показаться, что статья агитирует за все новое, революционное и левое. Но «хуже советских только антисоветские». Дело не в борьбе против капитала. А в важности создании лифтов для искусства созвучного актуальной повестке малых тем. Важности сохранения независимости оптики институтов критики. Капиталистические стратегии должны быть расширены. Чтобы создать новые связи с между художником и зрителем. Чтобы убрать болезненное и нездоровое из разговоров об искусстве. Чтобы услышать тонкий голос тишины времени.
Я запросил у нейросети GPT сценарий перформанса, используя эту статью, и проиллюстрировал его иллюстрациями Midjourney. Так статья стала киберперформансом с применением искусственного интеллекта.